 «Современный танец — это наше тело, это наша жизнь»
«Современный танец — это наше тело, это наша жизнь»

Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова», поставил балет «Золотой Полоз» по мотивам сказов Павла Бажова на музыку пермского композитора Игоря Машукова. По словам автора, этот балет наполнен уральской мистикой… От обсуждения нового проекта разговор, разумеется, перешёл к проблемам современной хореографии и к месту, которое занимают в ней Урал, Пермь и театр «Балет Евгения Панфилова».
— Мы с Игорем Евгеньевичем (Машуковым — ред.) задумали грандиозный проект — уральскую балетную трилогию, части которой будут символизировать нижний, средний и верхний мир, как на изображениях пермского звериного стиля. «Золотой Полоз» — это про нижний, подземный мир, Полоз символизирует Уральский хребет, а также мудрость и единство мира.
Работая над балетом, я понял, что Бажов гораздо более глубок, чем нам казалось, когда мы в детстве читали его сказы. Это целая мистическая система, как будто у него есть сакральная информация, и он её выдаёт намёками. Можно и без Тибета обойтись: на Урале всё это есть, в том числе в литературе. Эта система мне напоминает «Розу мира» Даниила Андреева.
Наш балет — не сказка, а притча. В нём говорится об отношениях отца-дракона и дочери — девушки с золотой косой. Это история об испытании героя: что он выберет — любовь или золото? Это такой «роман воспитания»: главный герой — Алып — и не подозревает вначале, какая ему предстоит дорога, какие испытания — испытание аскезой, испытание временем... Знал бы, мог бы и не решиться!
— А что будет во второй и третьей частях трилогии?
— Это лучше спросить у Игоря Евгеньевича. Мы этот пас получили от Владимира Варнавы, это он нам предложил сделать проект по Бажову. Сам хотел ставить, но у него сейчас огромный проект с Гергиевым: он делает в Мариинке нового «Щелкунчика». Возможно, он подключится, когда придёт очередь среднего и высшего миров. Но сейчас очередь за Машуковым, он должен музыку написать.
— Классический балет весь строится из набора элементов, которые изучаются в балетных школах и называются преимущественно французскими терминами. Случится ли когда-нибудь, что то, что называется современной хореографией, обретёт свой набор устойчивых терминов и превратится в классику? Может быть, никогда?
— Вообще-то это уже происходит, и давно. Танец модерн, появившийся в 1920-е годы, к 1970-м уже покрылся лаком, он хорошо изучен и описан. В нём есть свои классы, станок, этюды, методики преподавания, учебники… Сейчас формируется новый танец — постмодерн, контемпорари — танец поколения, не знавшего войны. Модерн для нас уже слишком причёсанный стиль. Конечно, Айседора Дункан была революционеркой, но наши девушки гораздо радикальнее!

— Каким должен быть танец, чтобы отвечать запросам современной молодой публики?
— На современную хореографию влияет электронный мир — всевозможные гаджеты, виртуальная реальность, социальные сети, игры. Это другая культура, но лет через 20 и она станет канонической — будет ещё один кирпич в здании истории танца.
Классическая хореография — это танец в своей герметичности, танец ради танца. Модерн привнёс в танец телесное начало, определённую логику. В нём очень много логики, много головы, многое идёт от сюжета. В классике сюжет балета — лишь подкладка, на которой строится танец, поэтому там часто такие ходульные сюжеты, такие схематичные: они ведь для того, чтобы наворотить разных танцев — всех этих па-де-де, па-де-труа, мазурок, вальсов… В модерне сюжет выходит на первый план, там важно содержание, какая-то мысль. А сейчас в балете торжествует новая дикость, порыв, глубинная энергия.
Классический танец — это и не тело, и не мысль, а чистое парение. Можно это наглядно объяснить: первая позиция в классике — это выворотные стопы. Для человека это неестественно, потому что эта позиция — неустойчивая. Стоит меня толкнуть — и я легко падаю, я парю! Возвышенное парение, никакого быта, движение только вверх — вот что такое балетная классика.
В танце модерн я устойчив, я владею собой, я командую телом, я иду за импульсом, за своими желаниями и держусь за землю, питаюсь от неё.
«Сильфиды», «Жизели», «Лебединые озёра» — это чистые мечты. Я обожаю классический балет. Я люблю смотреть на всё это. Но после этого я хочу жить. Современный танец — это наше тело, наша жизнь.
При этом я вижу, что никто не готов отказаться от классической базы — она как волшебный сок, который помогал галлам Астериксу и Обеликсу быть сильными. А танцевать при этом Шекспира или Толкина — десятое дело.
— Есть ли в современном танце то, что называется модой? Существуют ли в нём тренды, течения?
— В нашу «религию» приходят отовсюду — и из классики, и из бальных танцев, и из уличных. В зависимости от бэкграунда постановщика и возникает стиль танца. Поэтому современная хореография очень разнообразна, её трудно подразделить на течения, но кое-что всё-таки можно выделить.
Сейчас очень интересна израильская тема — стиль гага, пришедший из труппы «Батшева». Стиль, созданный Охадом Наарином, — это концентрированная свобода движений и в то же время полное единство труппы. Это свобода единомышленников: это наш танец, это наш клан, это наше внутреннее веселье! Техника гага — это импровизация на базе стилевого единства. Ситуация, когда хореограф задаёт лишь общие стилевые рамки, а внутри них танцовщики импровизируют, — это очень рискованно. Для того чтобы танец получился безупречным, надо очень много работать, очень много тренироваться, репетировать. Это серьёзная работа. Недаром Охад Наарин работает только со своей труппой, в других театрах не соглашается ставить, хотя приглашений — море! Для того чтобы использовать его метод, надо знать своих танцовщиков, как самого себя, и полностью на них полагаться. У этого танца свой вкус, свои специи — они сразу заметны.

— А у вас есть свои специи?
— Мне очень понравилось, как сказал о стиле Евгения Панфилова Раду Поклитару: «Система Панфилова — в отсутствии системы». У Панфилова все балеты — разные. Взять, например, «Восемь русских песен» и «Ромео и Джульетту»: если не знать, что у них один автор, ни за что не догадаться.
Поклитару называл наш стиль «фирменным лоском». Евгений Алексеевич любил образованных, хорошо обученных танцовщиков, сказывалась тяга деревенского мальчика к высокому искусству. Он приходил в хореографическое училище и видел, что даже самые гадкие из утят вырастают отличными танцовщиками, если ими заняться. И он занимался, и выращивал… Панфилов считал, что если его танцовщики не будут лучшими в мире, то нет смысла работать.
Когда я сейчас гляжу на молодых гениев хореографии — Константина Кейхеля, Владимира Варнаву, я вижу то же панфиловское стремление делать новый, невиданный танец с великолепными танцовщиками, с обученными, холёными телами.
— В какую сторону движется современный танец?
— Современному танцу интересны сейчас две темы, прямо противоположные. С одной стороны, он постигает новые культуры, которые приносит научно-техническая революция, с другой стороны — погружается в культуры прошлого, в древность, стремится к корням. Вообще, движение, прогресс в современном танце построен на совмещении несовместимого, когда каждый новый синтез — это вызов. Совмещение академического танца и модерна — это совмещение уличной грязи с голубой кровью. Разве это не вызов?
Евгений Панфилов был в этом отношении абсолютным гением. Не потому, что все его работы гениальные — были у него разные работы, более успешные, менее, — а с точки зрения культурологического проживания, выстраивания мира вокруг себя. Если бы не он, не было бы уральской школы современного танца. Своим чёрным плащом он прикрывал тех, кто послабее, и они крепли и вырастали. Он дал им выжить и принял все самые страшные удары на себя. Он показал, как дикий, одержимый идеями хореограф может создавать новую эстетику.
Нам очень повезло. Мне очень повезло, что я живу в Перми — в признанной третьей балетной столице, всегда открытой для эксперимента.
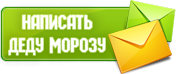



















 |
|