 «У нас искажена система стимулов»
«У нас искажена система стимулов»

Технологии стремительно сменяют друг друга, и иногда действительно начинаешь верить, что интернет может решить почти все проблемы в мире. Даже те, которые касаются таких тонких сфер, как образование и формирование человеческих ценностей. Но глобальная сеть не панацея, а зачастую источник новых проблем современности. К чему приводит то, что наше сознание не поспевает за техническим прогрессом, и почему всеобщий доступ к информации не помогает снизить уровень мракобесия, «Компаньон magazine» поговорил с экономическим обозревателем, организатором публичных лекций и дискуссий Борисом Грозовским.
— Борис, совместно с коллегами вы сделали очень интересный проект для Republic «Главные книги XXI века» — подобрали нон-фикшн по 15 темам современности, выраженным в литературе. Какие вопросы вы бы выделили как наиболее актуальные в наше время?
— У каждого времени есть свои темы, которые кажутся особенно важными. Например, в последний год актуальной стала тема «Истина, правда и после правды». Она стала волновать интеллектуалов в момент американской предвыборной кампании, когда практически каждое слово Трампа было ложью, но это только добавляло ему политических очков. Похожие политики появились во Франции и Германии. Возник вопрос: почему, несмотря на существование нормальной аналитики, профессиональной журналистики, когда все факты и утверждения можно проверить, политики лгут и им это сходит с рук?
В эту рубрику, например, попала замечательная книжка Брайана Каплана «Миф о рациональном избирателе». Каплан пытается понять, насколько рационально действуют люди, когда они голосуют. Делают выбор исходя из их экономических интересов или подчиняясь другим механизмам: харизме лидера, эмоциональной симпатии и т. д.
— В перечне тем, которые вы выделили, есть и такие, которые были актуальны в другие эпохи. Например, «Память и беспамятство». Почему вы считаете эту тему важной для современности?
— Особенно актуальной эта тема стала после Второй мировой войны, после опыта Холокоста, сталинских репрессий. У народов появился большой исторический опыт, связанный с травмой. Этот опыт сложно пережить, в каком-то смысле даже сложно признать своим. То есть сложно сказать: «Мой дедушка был участником преступлений против человечности». Сложно признаться самому себе, что одно-два поколения назад в стране был режим, построенный на унижении человеческого достоинства. И дальше начинается, например, опыт послевоенной Германии — опыт раскаяния, вины, попытка на уровне всех общественных институтов выстроить такие механизмы, которые не позволят ещё раз так одурманить весь народ.
Основные книжки по проблеме памяти — по немецкой, французской историографии — появились в начале 1980-х годов, а у нас чуть позже. Например, работа филолога и историка Александра Эткинда «Кривое горе: Память о непогребённых» вышла три года назад.

— В чём нет сомнений, так это в том, что для XXI века важна тема новых технологий. У вас она сформулирована так: «Апокалипсис сегодня — технология, утопия и антиутопия». Почему вы решили посмотреть на этот вопрос в таком разрезе?
— Утопии и антиутопии люди сочиняют достаточно давно. То, что изменилось сейчас, — резкое ускорение технического прогресса. Во-первых, промежуток между приходом одной новой технологии, которая сильно меняет мир, и приходом следующей технологии, которая опять же сильно меняет мир, сильно сократился. Во-вторых, резко уменьшилось время, которое необходимо для того, чтобы новая технология прошла путь от этапа придумывания до этапа широкого распространения. Хрестоматийный пример: между открытием электричества и моментом, когда оно пришло в каждый дом России, прошло порядка 140 лет. Сейчас всё происходит намного быстрее. Интернет как способ связи был открыт в 1980-х и уже четверть века спустя стал всеобщим.
Утопии и антиутопии как попытки угадать траекторию развития жизни сейчас становятся более актуальными, чем в то время, когда изменения происходили медленно. Сейчас очень часто, даже когда технология открыта, совершенно неизвестно, как в реальности она изменит экономические и социальные формы организации жизни.
Например, мы более-менее понимаем, что могут, а чего не могут роботы, как они устроены. Но мы совершенно не знаем, как изменится социально-экономическая ткань жизни, когда производство станет роботизировано не на отдельных участках, как это сейчас происходит, а повсеместно. Что произойдёт с рабочей силой?
Сейчас и Россия, и другие страны с развитой экономикой привыкли к тому, что уровень безработицы не превышает 10%, а держится на уровне 5—7% от числа желающих работать. Когда несколько лет назад в Испании в разгар кризиса безработица доходила до 25%, а среди молодёжи от 25 до 30 лет — почти до 50%, в стране было очень неспокойно. При таком уровне безработицы современное общество не знает, как сохранить устойчивость политической системы.
Теперь представим себе, что всю механическую работу делают машины, какая у нас при этом будет безработица? Это может быть 20, 30 или 50%. Это невозможно спрогнозировать.
— Кажется, что государство осознаёт такие риски, поэтому мы и не видим стремительного замещения людей роботами на производствах, где это уже возможно.
— Да, государство может придумывать бесполезные работы: ты копаешь траншею, а другой рабочий её закапывает. Все счастливы — два рабочих места созданы. Но в реальности эта работа никому не нужна. Государство несёт расходы, а кто их «оплачивает»? Нужно увеличивать налогообложение, а как вы его увеличите, если работать нужно меньше?
Если в обозримом будущем машины будут делать существенную часть работы, которую сейчас делают люди, то остальным нужно как минимум обеспечить какой-то уровень дохода, который позволит им не умереть с голода. Так появилась концепция базового дохода. Есть эксперименты на уровне отдельных городов, провинций и даже стран, где каждый имеет гарантированный доход в размере 400—600 евро или долларов, которого достаточно для жизни.
Но не очень понятно, как от этого изменится жизнь. У нас же пока мало людей свободных профессий. Люди привыкли вставать рано утром, ехать на работу, где строго определён график. Это создаёт какой-то порядок в жизни. Каким будет социальное устройство, когда половина этих рабочих мест не будут нужны? Чем эти люди будут заниматься?
В развитых странах на протяжении последних 80 лет стабильно сокращается количество времени, которое люди уделяют работе. Неслучайно во многих европейских странах сложно найти магазины, работающие по выходным, после обеда сиеста. Когда человек понимает, что можно обеспечить семью, работая по 20—30 часов в неделю, он постепенно начинает по-другому выстраивать структуру жизни. У людей появляется время на второе или третье образование, занятия с семьёй, путешествия, резко возрастает волонтёрская активность. В странах, в которых развито гражданское общество, людям есть чем заняться, потому что они вовлечены во множество разных организаций, у которых есть дела на местном уровне: общины, собрания и т. д. И когда такие люди начинают меньше работать, они от этого не становятся асоциальными.
У нас же, по опыту начала 1990-х годов, всё происходит несколько иначе. В Екатеринбурге, например, когда крупные предприятия типа «Уралмаша» высвободили большое количество рабочей силы, это привело к массовому подъёму организованных преступных группировок. То есть людей вытолкнули из легальной занятости, и они пошли в альтернативные сообщества, где жизнь тоже структурирована по правилам, но совершенно другим.

— В одной из своих статей вы сравнивали ценности в разных странах. Как вы считаете, интернет способен уравнять ценности или сформировать новые, единые для всего мира?
— Исследования ценностей проводят и на европейском, и на всемирном уровне. Они говорят нам о том, что россияне и жители других постсоветских стран в сравнении с жителями Европы, США, Канады, Австралии менее альтруистичны. Во многом это обусловлено советским и постсоветским опытом. Тем, что СССР был коллективистским государством. С момента развала СССР любая коллективность оказывалась для жителей постсоветских стран дискредитируемой. Это сделало людей в большей степени индивидуалистами и в меньшей степени альтруистами, которые готовы заботиться о детях, стариках, животных, экологии и т. д. Мы намного больше ориентированы на личный успех, чем на помощь другим.
Неправильно было бы сказать, что мы консерваторы. Традиционные ценности в России распространены меньше, чем во многих азиатских странах и даже в США. Но одновременно с этим для многих людей характерно неприятие нового, страх перед изменениями.
Это основные ценностные отличия. Способен ли интернет это всё сгладить? С одной стороны, интернет и глобализация экономики многое меняют: мы начинаем есть ту же самую еду, одеваться в ту же самую одежду, что и жители развитых стран. У нас те же самые привычки, мы смотрим те же самые сериалы, слушаем ту же самую музыку. Всё это имеет своё влияние. Но я боюсь тут оказаться оптимистом. Например, у носителей английского языка нет вообще никаких проблем с доступом к информации. Но это совершенно не мешает распространённости довольно диких суеверий, предрассудков и мифов.
Всё-таки национальное самосознание во многом статично. Это отчасти связано с тем, что за последние десятилетия не только технологии, но и социальная жизнь стала меняться во всём мире быстрее, чем до этого. Сознание за этими изменениями не успевает. Антимигрантские настроения в Европе связаны не только со всплеском терактов в последние годы. У людей стал нарушаться привычный ритм жизни: какие-то чужаки в массовом порядке появляются в соседних кварталах, у них иначе организована жизнь, у них другая вера, они приносят с собой свои обычаи, традиции, формы жизни. Мультикультурализм стал идеологией в западных либеральных университетах, но он не стал идеологией, принятой массовым сознанием. В какой-то момент обыватели начинают возмущаться тем, что жизнь меняется быстрее, чем им бы хотелось. То же самое касается отношения к ЛГБТ-сообществам. То, что стало социально узаконенной нормой, сознание ещё не может принять.
— Вы говорите, что доступ к информации открыт, а суеверия и предрассудки продолжают процветать. В России в последние годы появляется много новых бесплатных просветительских проектов, в том числе в интернете, но нельзя сказать, что они пользуются широким спросом. Почему у людей отсутствует мотивация узнавать что-то новое? Не оттого ли, что они не знают, что потом делать с новыми знаниями? Это как высшее образование, которое в нашей стране вовсе не является гарантом хорошей работы и успешной карьеры.
— В России так называемая образовательная премия есть. Просто она у нас намного меньше, чем в США или Европе. У людей с высшим образованием вероятность попасть в число 25% самых низкооплачиваемых работников значительно ниже. Люди с высшим образованием редко работают дворниками, грузчиками, кассирами в супермаркете. То есть маленькая премия в районе 10% всё-таки есть. Зато те, у кого нет оконченного среднего образования, получают значительно меньше, чем те, у кого оно есть. То есть сейчас среднее образование — это как в XIX веке была грамотность.
Конечно же, у нас абсолютно искажены стимулы. Взять ту же самую Америку: у выпускников Йельского университета, Принстона или Гарварда есть большое преимущество в сравнении с выпускниками второразрядных университетов. Прибавка к зарплате будет большая. У нас это работает на уровне буквально нескольких вузов — МГИМО, ряда факультетов НИУ ВШЭ. В остальном и качество образования низкое, и образовательная премия очень маленькая.
Абсолютно понятно, что спрос на просвещение низкий, потому что людям совершенно непонятно, что с этим делать дальше. Разве что удовлетворять собственную любознательность. Я не знаю, можем ли мы с этим что-то сделать.
С тем, что люди не особо мотивированы заниматься просвещением, ходить на лекции, читать книжки и так далее, ещё можно примириться. Для экономики более трагично другое, и это хорошо видно по соцопросам: год от года всё меньшее число людей думает о том, чтобы открыть свой бизнес. В отличие от жителей развитых стран мы не мечтаем о том, чтобы скопить стартовый капитал и заняться делом, которое будет приносить одновременно и удовольствие, и доход. Потому что мы понимаем, с какими налогами, рисками, связанными с потерей бизнеса в результате действий либо конкурентов, либо силовых структур, мы столкнёмся.
Зато всё большее количество людей мечтает устроиться в большую госкорпорацию либо поступить на госслужбу. В условиях, когда люди не мотивированы к открытию своего дела, а мечтают о том, чтобы устроиться на госслужбу, экономика не может быстро развиваться. У нас за последние девять лет рост ВВП в общей сложности меньше 5% — примерно на уровне 0,5—0,6% в год на протяжении 2009—2017 годов. К слову, рост ВВП менее 5% в год вообще не ощутим на бытовом уровне.
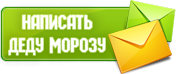



















 |
|